Сделано с заботой: о новой отчетной нагрузке

главный редактор
На сайте ФНС России опубликованы новые версии 30 документов, адресованных компаниям, включенным в систему налогового мониторинга1. Служба требует выполнять их положения начиная с 2026 г.
В числе этих документов «Сервис получения сведений о макроэкономических факторах (санкционных ограничениях), влияющих на деятельность компании». Он требует представлять в налоговые органы «на регламентной основе», то есть ежеквартально в установленный срок, информацию о санкционных ограничениях и их фактическом воздействии на деятельность компании (см. текст на полях).
«Сервис» требует от налогоплательщиков представлять данные о трудностях в поставках сырья и материалов, машин и оборудования, расчетах и др. В инспекции направляется аналитика. Например, как изменился размер дебиторской задолженности: вырос, снизился или остался прежним. Заметим, что все цифровые показатели для нее в налоговых органах и так имеются: эта информация есть в обычной отчетности.
Другой «сервис» – ежегодная сводка с поквартальной актуализацией сведений о полученных налогоплательщиком мерах господдержки (субсидиях, грантах): о видах, формах, объемах госфинансирования, фактическом использовании и др.
Еще один «сервис» затребует отчеты об инвестпроектах: необходимо ежегодно, с поквартальным уточнением, представлять по 160 позициям весьма детальную информацию по всем аспектам таких проектов – правовым, имущественным, финансовым и т. д.
Авторы нововведения остаются инкогнито, так как опубликованные «сервисы» никем не подписаны, не имеют необходимых реквизитов документа. «Сервисы» оформлены как очередные приложения (из третьего десятка) к регламенту взаимодействия участника налогового мониторинга и инспекции через информационную систему. У них технологизированный вид: описание «сервиса» имеет форму таблицы с указаниями номеров строк, кодов, символов и др. Внешне – как и неюридический документ. Однако же указано, что правовой основой новых обязанностей налогоплательщиков является подп. 3 п. 6 ст. 105.26 НК РФ.
Постараемся разобраться в правовой основе этих требований.
Служба вправе утверждать порядок получения доступа к информационным системам компаний – участников налогового мониторинга2. Этот порядок утвержден соответствующим Приказом ФНС России от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163@, который закрепляет обязанность налогоплательщика обеспечить возможность взаимодействия с налоговым органом через информационную систему организации (п. 1). Информация о технологии взаимодействия размещается на официальном сайте Службы (п. 2)3.
«Информация на сайте» имеет форму Регламента взаимодействия через информационную систему организации при проведении налогового мониторинга (далее – Регламент). Он представлен в электронном формате Word без всяких «опознавательных знаков». Нет ни одного из обязательных элементов нормативного акта (в том числе нормативно-технического), позволяющих идентифицировать и подтвердить его юридическую силу: нет места и даты принятия, номера, подписи уполномоченного должностного лица.
Приложения к Регламенту (их в настоящий момент 33) определяют технологию представления информации определенного содержания, в том числе периодичность, характер и комплектность сведений, способы кодировки данных. Эти приложения имеют специфическое название «сервисы». Оно отсылает к позиционированию ФНС как сервисной службы, обеспечивающей удобство взаимодействия с «клиентами», а по существу регламентирует форму представления информации по электронным каналам связи. При бумажном документообороте ту же функцию выполняют утвержденные формы налоговых деклараций. Задача одна и та же: обязать налогоплательщика представить необходимые инспекторам данные в структурном виде, отвечающем задачам контроля.
Очевидно, когда Минюст России регистрировал Приказ ФНС России практически со словами «а о технологии взаимодействия смотрите на сайте», он вряд ли догадывался о будущем содержании размещенных на сайте Службы требований, о том, что они приобретут второе дно: на виду технические алгоритмы, а за подкладкой – сущностные требования (см. текст на полях).
Об отсылочных нормах
Сама по себе отсылка в правовом нормативном акте к сайту как источнику развивающих его положений весьма сомнительна с точки зрения техники юридического нормотворчества. Отсылочная норма должна отправлять к другому нормативному акту или другой норме в том же акте, но не куда-то вне правового поля, вне источников права.
Разумеется, ФНС России не вправе налагать на налогоплательщика обязанности, не предусмотренные НК РФ, и наказывать за их невыполнение4. Кроме того, пределы полномочий налоговых органов, как и любых других органов госуправления, очерчены их задачами и функциями, определенными законом. Если налоговый орган реализует свои полномочия даже формально законно, но вне рамок закона, преследует иные цели, нужно говорить о том, что он злоупотребляет полномочиями5. Содержание ряда «сервисов» – затребование аналитической информации, не имеющей значения для контроля за исчислением и уплатой налогов налогоплательщиком, – убедительно свидетельствует о выходе за пределы установленных законом функций налоговых органов.
ФНС России постепенно становится регулятором «широкого профиля»: ведет различные реестры, консолидирует обширную информацию и пр.6 При этом она вторгается в компетенцию иных госорганов, дублирует их полномочия, утяжеляя административную нагрузку на бизнес (см. текст на полях). ЦБ РФ уже высказал обеспокоенность трансформацией ФНС в суперведомство, прибирающее чужие полномочия7.
Пример полномочий иных госорганов, продублированных ФНС
Например, именно Росстат (а не налоговая служба) определяет состав и сроки представления головными организациями групп компаний сведений об инвестиционной деятельности участников группы (п. 5.6 (2) Положения о Федеральной службе государственной статистики, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 420).
Вполне возможно, что в данном случае речь идет не об узурпации чужих функций, а о выполнении «дружеской просьбы» – скажем, Минэкономразвития России, которое данная информация интересует гораздо больше в связи с полномочиями по СЗПК. Участники налогового мониторинга рассказывают, что инспекция через витрину данных часто запрашивает какую-то неналоговую информацию и объясняет: «Нам самим этого не нужно, нам сказало начальство, а ему – Минэк. Нас даже не спрашивайте, что и как представлять».
Однако здесь есть и элемент иронии. Можно понять желание ведомства получить сведения из первых рук, а затем просто обобщить. Но это ненадлежащая замена развитию настоящих аналитических ресурсов, способных собирать и обрабатывать первичные данные и данные статистики (Big Data). В этом смысле новшество – «ленивое» решение, имитирующее технологический прогресс. Но компаниям – участникам налогового мониторинга, напротив, придется изрядно потрудиться и раскошелиться, поскольку выполнение каждого нового «сервиса» оборачивается значительными затратами на доработку программного обеспечения, добор кадров и др. Эти расходы на администрирование – составная часть общего налогового бремени, которое неуклонно растет.
Очевидные нарушения правовых стандартов, как в этом случае, происходят во многом из-за того, что юристы оказались не готовы к правовой оценке технологических изменений и их общественных последствий. Цифровизация, в том числе контрольно-надзорной деятельности, привносит существенную «техническую компоненту», под влиянием которой складываются новые общественные отношения. Они в значительной степени регулируются техническими НПА, массив которых растет и которые в будущем могут составить основу правового регулирования цифровых (технических) отношений. Но у этой группы источников права есть важные особенности, связанные как с содержанием, так и с формой. При неизбежном расширении этой группы ее особые свойства будут оказывать мощное давление на традиционные источники права, приспосабливая их к своим потребностям8.
Цифровизация во весь рост ставит вопрос о форме выражения правовых норм и качестве законодательства. Если законы все больше будут реализовываться через информационные системы, как их надо писать? Как сделать так, чтобы аморфные, «заковыристые» тексты нормативных актов «ложились» на цифровую технологию, не теряя правовой сути? Законодатель пока вовсе не стремится к «цифровому удобству», не заботится об «алгоритмическом качестве» правовых актов. Проблема даже усугубляется из-за бесконтрольного вброса слабо проработанных поправок во втором чтении9. В такой ситуации ожидаемо начинает проявляться другая крайность: правовые по содержанию нормы сразу пишут в «машиночитаемой» форме, не заботясь о соблюдении правил нормотворчества. Дело, стало быть, не только в злой воле тех, кто хочет тайно ввести дополнительные обязанности.
Однако нельзя сбрасывать со счетов и нетерпеливость инноваторов, которые и сами могут предлагать непроработанные решения, чреватые масштабными отрицательными последствиями. Яркий пример – драматическая история торопливого введения ЕНС10. Надо учитывать и риски стимулирующего воздействия ИT-лобби: оно крайне заинтересовано в ускоренном росте числа участников налогового мониторинга и расширении круга их обязанностей11, и для него правовые стандарты кажутся досадными недоразумениями.
Нормативно-техническое регулирование цифровой эпохи высвечивает проблему применения нормы ч. 3 ст. 15 Конституции РФ о том, что «любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения». Размещение информационных сообщений на сайтах если и можно назвать обнародованием, то официальным опубликованием признать нельзя. Помимо традиционных изданий, с 2022 г. тексты правовых актов могут публиковаться на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)12. ФНС России решила обойтись и без него.
Но и техногенная цивилизация не может отказаться от того, чтобы в неприкосновенности оставались те правовые ценности, на которых основана общественная гармония. Среди них принципы нормотворческой деятельности: законность, гласность, учет демократических прав и свобод. Как демонстрирует рассмотренная ситуация, сегодня они игнорируются, во всяком случае на ведомственном уровне.
Чтобы эта практика не завела слишком далеко, проблемы правового регулирования инновационных форм налогового контроля надо поместить в фокус научного и профессионального внимания. Без этого официальные уверения, что налоговый мониторинг внедряется с соблюдением баланса между государственными интересами и интересами хозсубъектов в собственном развитии и приводит к снижению административного бремени13, останутся пустой декларацией. Пока же лица, вступающие в налоговый мониторинг, входят в область правовой неопределенности с рисками роста административной нагрузки и существенных дополнительных затрат.
Впервые статья опубликована в газете «Ведомости».
С уважением,
С.Г. Пепеляев
S.G. Pepeliaev
Made with care: New reporting burden
Chief editor on FTS’s new ‘options’ for parties to tax monitoring
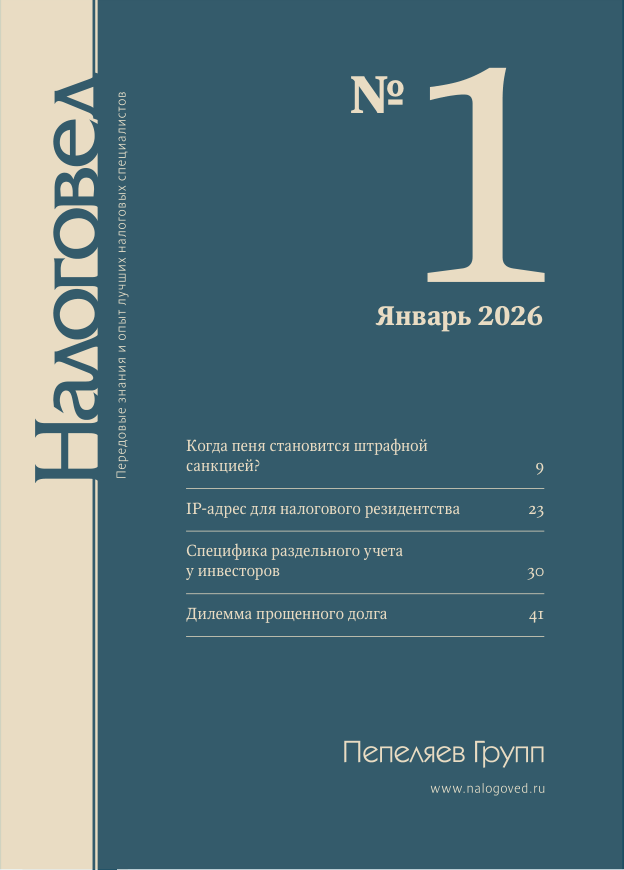


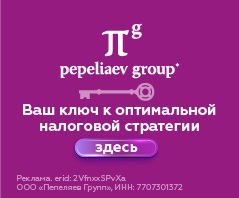
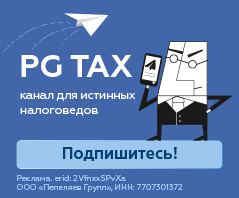
«СЕРВИС» ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ