«Поведение налогоплательщика не пустой звук для нас»
В.В. Бациев,
заместитель руководителя ФНС России
Долгожданное письмо ФНС России о применении ст. 54.1 НК РФ1 опубликовано. Задолго до его появления начались споры и обсуждения, о чем оно должно быть. О том, что получилось в итоге, какую основную цель преследовала Служба, поговорим с руководителем рабочей группы по подготовке этого документа Виктором Валентиновичем Бациевым.
1990—1995 гг. — учеба на юридическом факультете Волгоградского государственного университета.
До 2001 г. — юридическая практика в Волгограде.
2001—2003 гг. -учеба в Российской школе частного права при ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации».
2003—2006 гг. — главный консультант, советник, 2006—2009 гг. — начальник Управления анализа и обобщения судебной практики ВАС РФ.
С 2009 г. — судья ВАС РФ, с 2011 по 2014 г. — председатель состава (налогового), член Президиума ВАС РФ.
В 2014 г. создал культурно-образовательный проект «Поддержка».
С 2015 по 2020 г. занимался преподавательской деятельностью в Исследовательском центре частного права при Президенте РФ.
24.01.2020 назначен на должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы. Непосредственно координирует и контролирует деятельность Правового управления.
О влиянии Письма на правоприменение
— Виктор Валентинович, проделана огромная работа для подготовки Письма. Но теперь важно, как оно будет воспринято на практике. Служба планирует «обучать» сотрудников нижестоящих инспекций?
— Безусловно. Письмо закрепляет модельные правила, описывает типовые ситуации, которые мы увидели при обобщении административной практики налоговых органов и судебной практики. Но жизнь богаче, положения Письма будут преломляться в зависимости от конкретных ситуаций, в том числе при использовании этого документа коллегами с «территорий». А значит, будут появляться вопросы, и мы готовы их обсуждать.
Вопросы, поступающие от региональных управлений ФНС России, уже обсуждаются в формате видео-конференц-связи. Со стороны центрального аппарата в обсуждениях принимают участие коллеги из подразделений досудебного урегулирования налоговых споров, контрольных и правового управлений, а если в вопросах виден международный аспект, речь о сделках со злоупотреблением иностранным элементом — управления трансфертного ценообразования. Иными словами, подразделения, чья работа связана с применением статьи 54.1 НК РФ.
По итогам этой работы мы планируем подготовить обзор практики. И станем ориентироваться на позицию судов, где будут оцениваться те же самые вопросы и сформированные налоговыми органами подходы. Хочется надеяться, что разъяснения Службы найдут понимание в судах и подходы судей будут не диаметрально противоположными, а направлены на развитие данных разъяснений и корректировку нюансов.
— Как сама ФНС России определяет статус Письма? В его тексте сказано: «направляет рекомендации».
— В текст Письма инкорпорированы позиции высших судебных инстанций в первую очередь по ситуациям, когда налогоплательщик причастен к налоговой схеме, знает о получении в результате ее применения необоснованной налоговой выгоды, то есть действует с умыслом. В Письме много информации о том, на какие контрольные мероприятия ориентироваться налоговым инспекторам при выявлении схемы.
Кроме того, итоговый текст готовился в начале этого года, и у нас была возможность учесть значимые акты Конституционного и Верховного судов, принятые в период с ноября 2020-го по январь 2021 года. В этих актах волнующий всех ключевой вопрос о том, ведет ли статья 54.1 НК РФ к развороту имевшихся до ее появления подходов в практике, был решен однозначно. Обязательность позиций высших судов определила периметр наших рассуждений, что важно, мы определились в главном.
Но Служба развивается, появляется все больше информационных ресурсов, благодаря которым более прозрачной становится деятельность налогоплательщиков. Хотя на смену каждому осведомленному хитрому приходит еще более хитрый…
Если сравнить 2006 год с 2021-м, что мы увидим? Сейчас схемы инспектор может обнаружить не выходя из кабинета. Но информационные ресурсы лишь подсвечивают очаги проблемы, а этого мало. Нужно установить «выгодоприобретателей» схемы — будем использовать известный налоговым специалистам термин — и собрать доказательства по тем правилам, которые закреплены в Налоговом кодексе. Иными словами, информационные ресурсы — это только источники сведений, сами же доказательства правонарушения мы получаем в ходе контрольных мероприятий.
— Теперь в актах и решениях налоговых органов помимо ссылки на нормы статьи 54.1 НК РФ мы увидим ссылку и на Письмо?
— В Письме не содержится нормативного регулирования. Как я уже говорил, в нем широко использована судебная практика. Зачастую качественно проведенное обобщение практики, систематизация позиций — это большой шаг вперед, потому что устраняются шероховатости, мешавшие правоприменению. Эту работу мы и проделали: выстроили систему в зависимости от вины нарушителя, его поведения, а также поведения налогового органа и налогоплательщика в ходе контрольных мероприятий.
Поведение налогоплательщика не пустой звук для нас: есть ли с его стороны содействие налоговому органу или мы сталкиваемся с его агрессивным поведением на стадии досудебного или судебного обжалования, где формально налоговый орган лишен возможности представлять новые доказательства, да и по времени ограничен в их проверке.
Надо понимать, что от поведения налогоплательщика зависит, должен ли налоговый орган устанавливать действительный размер налоговых обязательств. Высший Арбитражный и Верховный суды подтверждают, что риски документальной неподтвержденности операций и сделок, когда контрагент — фейковая компания, несет налогоплательщик. Агрессивное противодействие не способствует снижению рисков и не должно быть извинительным. Другое дело, что мы должны четко установить наличие противодействия, оградить это противодействие от неосторожного поведения налогоплательщика, в силу которого он не может представить необходимое документальное подтверждение.
Можно заметить, что появившаяся 22 года назад норма об обязанности налогового органа установить налоговые обязательства расчетным путем в случае отсутствия документальной подтвержденности полярна тому, что я сказал. Наша задача была в том, чтобы приблизить позиции и снизить уровень конфликтности в правоприменении. А сделать это можно только учитывая поведение налогоплательщика. Да, это сложно, но именно таким путем мы пойдем.
— Рассчитывает ли ФНС России, что налогоплательщики будут учитывать положения Письма?
— Оно для них и писалось! Конечно, наша позиция в Письме — не тайна налогового инспектора, это наш подход, и в ответ мы хотели бы видеть понимание бизнеса.
Гражданский оборот требует разделять лиц, которые реально работают, и недействующих. Есть запрос бизнеса на конкурентные, честные правила поведения участников рынка, именно этот сегмент мы хотим привлечь на свою сторону. Именно поэтому много внимания уделено в Письме выбору контрагентов: эти положения для менеджеров компаний. Многие уже верно заметили, что этот блок Письма может лечь в основу внутренней документации компании в части определения правил возмещения вреда, причиненного сотрудниками в связи с налоговыми претензиями.
— А какую реакцию вы ждете от судов, изменится ли подход к доказыванию?
— Трудно сказать. Конечно, мы хотим повлиять на осознание процесса доказывания обоснованности претензий налоговых органов. Именно поэтому так подробно описываем его в Письме.
Но уже до выхода Письма мы наблюдали изменения позиций судов, в том числе на уровне ВС РФ, по вопросу доказывания. Даже признавая недопустимость формального подхода налогового органа, Верховный Суд делал оговорку, что налоговая обязанность должна быть установлена на основании документов, которые надо собрать при содействии налогоплательщика в ходе установления значимых обстоятельств. На самом деле в этом заинтересованы все участники процесса.
Суду не свойственно подменять административный орган и собирать доказательства только потому, что налогоплательщик не пожелал сам это делать. В каком-то смысле это несоблюдение процедуры, порядка досудебного урегулирования налогового спора. Да и суды ужесточили требования в части признания обстоятельств установленными. Пришло время обратить внимание на эту проблематику. Тезис о том, что значимые для дела обстоятельства могут быть восполнены судом, пора ставить под сомнение, причем необязательно в спорах вокруг статьи 54.1 НК РФ.
Институт эстоппеля, эффект его действия в гражданско-правовых спорах логично перенести и в сферу публичного права, и это вопрос времени. Так или иначе, но в налоговых делах оценивается имущественный оборот, а его правила влияют на публичные отношения и порядок разрешения публичных споров.
О налоговой реконструкции
— Есть ли в Письме позиции, отличающиеся от ранее высказанных Службой? Правильно ли считать, что в этом документе признана необходимость налоговой реконструкции?
— Оставлю первый вопрос для исследователей.
В части применения налоговой реконструкции мы достаточно осторожны, консервативны. Я прекрасно понимаю мотивы, почему была задана жесткая линия непринятия расходов и вычетов налогоплательщику, который преследовал цель неуплаты налогов, не ведя документооборот. Но это простое решение, и оно не укладывается в позиции судов, которые в поиске баланса частных и публичных интересов учитывают разные нюансы поведения налогоплательщика и порой указывают инспекциям на необходимость налоговой реконструкции.
Мы поставили во главу угла оценку поведения налогоплательщика. В ситуации, когда налогоплательщик организовал налоговую схему, знал, что приобретает товар у лица, не уплачивающего налоги, работающего в теневом секторе, в силу чего цена сделки оказалась сильно ниже, чем у других поставщиков, документальная неподтвержденность применением расчетного метода не излечивается. И мы не можем поощрять нелегальные операции.
И другой пример: налоговая выгода возникает от завышения цены, когда выявляется мнимость посреднической функции компании, которая встает между налогоплательщиком и поставщиком. В таком случае нарост стоимости может быть исключен, реальный документооборот можно восстановить — ситуация излечима.
При этом налоговая служба и раньше не спорила с необходимостью налоговой реконструкции при переквалификации операций, когда не ставятся под сомнение ценность операции, ее наличие, а анализируются форма и экономический мотив. Использованную налогоплательщиком некорректную форму сделки, повлекшую налоговое преимущество, мы не учитываем, устанавливаем экономическое существо операции, ее параметры и на их основе рассчитываем налоги. В этом смысле доктрина существа над формой никогда нами не отвергалась. Но ее применение невозможно в ситуациях с техническими компаниями, фиктивным документооборотом, налоговым мошенничеством и тому подобным. В таких случаях мы ничего не реконструируем.
— Значит, основная цель выпуска Письма — это борьба с техническими компаниями?
— Бо´льшая часть Письма посвящена их выявлению, пресечению налоговых злоупотреблений, которые совершаются с помощью таких компаний.
Проблематика квалификации деловой цели, злоупотребления формой юридического лица, использования подконтрольных лиц, дробление бизнеса и иные подобные ситуации тоже обозначены в Письме, поскольку они находятся в периметре статьи 54.1 НК РФ. Но не так подробно раскрыты, а лишь описаны с опорой на прежнюю судебную практику.
Для нас было важно определиться, как налоговым органам вести себя с техническими компаниями, для этого практики уже предостаточно (см. текст на полях). Это позволило выработать приемлемый для практики алгоритм оценки деятельности налогоплательщика с участием технических компаний.
Накопленная практика
Практика, показывающая, как налоговым органам вести себя с техническими компаниями, ведет начало от Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Развивается в правовых позициях:
Президиума ВАС РФ по делам «Коксохиммонтажтагила» (Постановление от 25.05.2010 по делу № А60-13159/2008-С8) и по делу Камского ЖБИ (Постановление от 03.07.2012 по делу № А71-13079/2010-А17);
СКЭС ВС РФ по делу «Центррегионугля» (Определение от 29.11.2016 по делу № А40-71125/2015).
Находит свое закрепление в ст. 54.1 НК РФ и затем в ряде дел в ВС РФ (№ А42-7695/2917, № А40-23565/2018).
— В пункте 7 Письма указано: «Налоговым органам в контрольной работе прежде всего следует проводить мероприятия, направленные на выявление правонарушений, совершенных налогоплательщиками умышленно». Акцент на умысел сделан неслучайно?
— Мы понимаем, что в выборку для проведения выездных проверок должны попадать прежде всего налогоплательщики, действовавшие умышленно. Мы также понимаем, что подобные случаи всегда оценочные, поэтому дифференциация между «налогоплательщик знал», «должен был знать» либо «не знал и не должен был знать» — это набор признаков, характеризующих сделку, ее наполнение.
Могут быть ординарные, мелкие сделки, не требующие, судя по предложениям на рынке, колоссальных ресурсов для их исполнения, специального делового опыта. В таких случаях требование о тщательной проверке контрагента становится чрезмерным. Здесь можно говорить, что налогоплательщик «не знал и не должен был знать» о том, что контрагент — техническая компания.
Другая история — когда умысел налогоплательщика очевиден. Он не может объяснить, почему был выбран именно этот контрагент, не может обосновать существо сделки. Возникает вопрос о разграничении ситуации «знал» и «должен был знать». Ответить на него помогут такие, к примеру, сомнительные обстоятельства, как сдача налоговой отчетности с одного IP-адреса с контрагентом. Это станет той самой «вишенкой на торте», которая позволит налоговому органу сделать однозначный вывод о наличии умысла налогоплательщика — «знал».
Если мы исключим между «знал» и «не знал и не должен был знать» звено «должен был знать», то получим бинарную систему, а она будет в нашем случае несправедлива, налоговые органы будут пытаться подвести действия налогоплательщика под умышленные — «знал». Но в выбранном нами подходе особую роль приобретает поведение налогоплательщика, которое помогает сформировать внутреннее убеждение у инспектора, по аналогии с тем, как это закреплено в процессуальном кодексе применительно к судье.
Почему принято считать, что в момент апогея конфликта внутреннее убеждение судьи важно, а в момент зарождения спора убеждение сотрудника налогового органа не важно? Никто уже не сомневается в состязательности налогового процесса, а формула, по которой бремя доказывания лежит только на налоговом органе, не выдержала испытание временем. Очевидно, что судья и в налоговых, и в гражданских делах будет вести себя одинаково.
— В этом же пункте 7 Письма в качестве примера налогового правонарушения, совершенного умышленно, указано «непринятие мер по защите нарушенного права». В каких ситуациях при таком поведении налогоплательщика принятие мер будет считаться своевременным?
— Это известные ситуации, причем возможные не только в налоговых правоотношениях, но и в валютных, например. Налогоплательщик внес аванс за товар, однако не получил его. При этом мер принуждения контрагента к исполнению договора не принял, а когда истек срок исковой давности, списал уплаченный аванс в убытки. Закономерен вопрос: мы точно уверены, что это был аванс за товар? Не притворная ли это сделка, когда под видом аванса произошло финансирование иного лица, обман кредиторов, акционеров и тому подобное?
Между тем бывает и обратная ситуация: когда искусственный документооборот, обосновывающий сделку, «доказывается» налогоплательщиком инициируемым им судебным процессом по взысканию долга. Как правило, такие процессы проходят без явки представителей ответчика.
Нужно осознать, что доказательства, опровергающие искусственность конструкций, мнимость отношений, накапливаются со временем, естественным путем. Возьмите любую реальную сделку и увидите, сколько там разного рода документов, писем, претензий по ее исполнению. И возьмите сделку «на бумаге», где есть только договор и акт, часто с подписью контрагента без расшифровки. В ней не будет конфликта, цель другая: не исполнение сделки, а вывод денежных средств.
Припоминаю случай, когда в оформленных договорах налогоплательщика с разными лицами была одна и та же орфографическая ошибка. Шрифты, разбивка по абзацам, структура договоров различались, а ошибка осталась. О чем это говорит? О том, что все договоры оформлены одним лицом, о взаимозависимости налогоплательщика со всеми контрагентами. Эта ошибка и сформировала убеждение по отношению к налогоплательщику.
— В Письме много говорится об опросах и допросах. Можно сказать, что это один из основных инструментов контрольной работы налоговых органов?
— Да, опросы позволяют уяснить характер деятельности налогоплательщика, обстоятельства выбора контрагента, заключения сделки и так далее.
Акцент на опросы, допросы делался и ранее в письмах, которые выходили из-под пера Контрольного управления ФНС России. Установить техническую компанию можно при документарном контроле, но идти дальше по предложенному нами в Письме пути невозможно без оценки субъективной стороны. Как мы поймем, все ли меры, вытекающие из гражданского оборота, были приняты налогоплательщиком? Только через поведение его сотрудников, которые могут пояснить ситуацию исходя из своего функционала, должностных обязанностей.
О выборе контрагента и смягчении ответственности налогоплательщика
— В разделе 4 Письма о выборе контрагента приведены признаки, свидетельствующие о его благонадежности: «бизнес-история», «деловая репутация», «опыт», «наличие исполненных контрактов» и тому подобное. Но, на наш взгляд, они не учитывают ситуации, когда контрагент — вновь созданное лицо, стартап. Как Вы это прокомментируете?
— Масштаб и история развития бизнеса показывают его реальность. Что имеется в виду? Компания должна обосновать своим покупателям, как она исполнит обязательство и что у нее для этого есть возможности. Наверное, поставка на миллион рублей таких вопросов уже не вызовет, а вот строительство многоквартирного дома потребует знания деловой истории исполнителя.
Такая же ситуация в сфере услуг, несмотря на то что услуга имеет личностный характер. Вряд ли компания выберет новичка — скорее всего, кого-то из десятки лучших, если, конечно, речь о сделке не на сто тысяч рублей, а на более существенную сумму. У каждого бизнеса с момента его появления своя логика развития, и ее несложно проследить и оценить.
— Связанный с предыдущим вопрос: как быть с предпринимателями, которым не нужны производственные мощности, квалифицированные кадры и все остальное, что перечислено в Письме как обстоятельства, которые налоговые органы должны установить и оценить при проверке контрагента?
— Вы заключаете договор на оказание услуг по рекламе с колоссальным разрывом в стоимости услуги по сравнению с предлагаемой рынком ценой за счет появления посредника, который не может пояснить этот разрыв. Возьмите правила ТЦО, и все встанет на свои места. Ну и мотив, конечно, поможет подсветить реальную историю.
— Такая ситуация: стороны тесно связаны по бизнесу через франшизу, когда для франчайзеров предоставляются один общий для всех бухгалтер, один IP-адрес, телефон по объективным причинам. Исходя из Письма, есть все признаки подконтрольности. Означает ли это, что франчайзинг априори в группе риска?
— У меня нет предубеждений против институтов гражданского права. В данном случае претензии возможны в связи с дроблением бизнеса. Порядок проверки такой же: оценка бизнес-процессов, поиск ответа на вопрос, в своем ли интересе ведут деятельность компании, кто реально распоряжается финансовым результатом их деятельности. Вспомните дело компании «МАН»2, где следов независимой от компании деятельности индивидуального предпринимателя налоговый орган не нашел.
Вопрос интересный, так как франшиза устанавливает много ограничений для использующего ее лица, предъявляет определенные стандарты деятельности. Налоговый орган должен опровергнуть независимость, понимая при этом, что сама модель бизнеса стандартизирована. Но если компания выстроила сеть под единым брендом и изымает прибыль всеми правдами и неправдами, то о какой независимости идет речь?
Мне не раз задавали примерно такой вопрос: скажите, если семь наших предпринимателей будут владеть торговыми точками по франшизе, будут ли в последующем налоговые претензии? Я обращаю внимание, что ключевые слова в вопросе не «франшиза», а «наши предприниматели». Исправьте на «семь предпринимателей, которые работают с нами на условиях независимости», и претензий не будет. «Нет, — говорят мне, — нам это неинтересно. Кто будут эти предприниматели, как мы можем передать им свой бизнес?» Но тогда о какой независимости речь?
— Не раз в Письме дается ссылка на открытые данные ФНС России, информацию, размещенную на сайте Службы в открытом доступе. Можно ли сказать, что налогоплательщики должны в обязательном порядке обращаться к этому интернет-ресурсу при выборе контрагента?
— У нас не настолько чистая среда, как нам всем этого хотелось бы. И если мы эту среду демонстрируем, компании должны обращать внимание на нашу информацию.
— В пункте 18 Письма говорится о праве налогоплательщика возместить убытки в виде неучтенных расходов и сумм НДС за счет контрагента. Позиция Службы основана на решении суда по делу торгового дома «РИФ»3. Но известно, что это было первое дело компании, а в более позднем суд сделал противоположные выводы. Да и в целом по взысканию убытков с контрагентов судебная практика отрицательная.
Почему ФНС России придерживается именно подхода, обозначенного в Письме?
— Акценты несколько другие. По сути, речь об обратной стороне выбора контрагента. Если налогоплательщик говорит, что проявил осмотрительность и после неправомерных действий контрагента его, то есть налогоплательщика, ожидания не оправдались, не были реализованы права в публичной сфере, то причинены убытки. Они стали результатом действий контрагента, выбранного, по мнению налогоплательщика, с учетом коммерческой осмотрительности. В таком случае есть субъект, способный ответить за убытки, причиненные налогоплательщику в публичной сфере, и есть к кому предъявить иск.
Возражения против нашей позиции основаны на том, что у такого лица нет источника выплат. Но давайте сделаем шаг назад — как в таком случае это обстоятельство соотносится с утверждением о проявлении коммерческой осмотрительности?
Не думаю, что это наше разъяснение будет активно применяться на практике. В отличие от выводов Суда по делу торгового дома «РИФ», мы показали логику, сделали акцент на том, что, если налогоплательщик потерял от того, что кто-то манипулировал его контрагентом — технической компанией, требование о возмещении убытков может быть обращено не только и даже не столько к этой оболочке, сколько к контролирующим такую компанию лицам-манипуляторам.
— Уточните, как соотносятся предложенный подход о возмещении убытков с контрагента и коммерческая осмотрительность?
— Если налогоплательщик проявил осмотрительность и она сомнений не вызывает, то к нему и налоговых претензий не будет. Речь идет о тех налогоплательщиках, которые такую осмотрительность не проявили, но должны были знать о техническом характере контрагента и получили поражение в праве в налоговой сфере ввиду документальной неподтвержденности операции при совершении сделки с таким техническим контрагентом. В этом смысле налогоплательщик пассивно и по неосторожности содействовал причинению ущерба казне и получил поражение именно за свое нарушение.
Вместе с тем такое поражение в праве обусловлено обманом со стороны контрагента. Поэтому отыскивайте лиц, с которых можно взыскать эти убытки: контрагента или тех, кто за ним стоит. Мы лишь демонстрируем легальный путь. Нельзя перекладывать на казну убытки, если известен причинитель вреда. Да, конструкция спорная, но она завершает логику наших рассуждений в оценке коммерческой осмотрительности.
— Налоговые оговорки и другие инструменты гражданского законодательства помогут налогоплательщикам в подобных случаях?
— Оставлю вопрос без ответа, не готов пока комментировать.
— В завершение рассмотрим еще один пункт Письма — 19-й: «При этом неосторожная форма вины должна учитываться при разрешении вопросов о применении налоговых санкций и оценки иных обстоятельств, которые могут рассматриваться в качестве смягчающих ответственность в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 112 Кодекса». А в случае совершения правонарушения умышленно налогоплательщик вправе рассчитывать на применение к нему смягчающих обстоятельств?
— Не буду утверждать, что из закона вытекает правило о том, что при умышленной форме вины применение смягчающих обстоятельств невозможно.
Смягчение ответственности — это вопрос индивидуализации наказания с учетом множества факторов, в том числе деятельного раскаяния. Степень вовлеченности в противоправную деятельность может быть разной. И деятельное раскаяние может быть разным: раскрытие участников схемы, уплата налогов и пеней и так далее. Перечень смягчающих обстоятельств открыт. Поэтому говорить о том, что при умышленной форме вины не могут быть применены смягчающие обстоятельства, значит признавать отказ от индивидуализации наказания в зависимости от оценки содеянного. Это было бы слишком смелое суждение.
Другое дело, что при наличии умысла надо быть очень осторожным с применением смягчающих обстоятельств, поскольку и степень общественной опасности таких деяний выше тех, что совершены по неосторожности.
— Спасибо за открытое выражение позиции и готовность к диалогу с профессиональным сообществом! Ждем новых писем Службы.
Интервью подготовила Маргарита Завязочникова,
зам. главного редактора журнала «Налоговед»
for us”
Service’s letter on the application of article 54.1 of the Tax Code
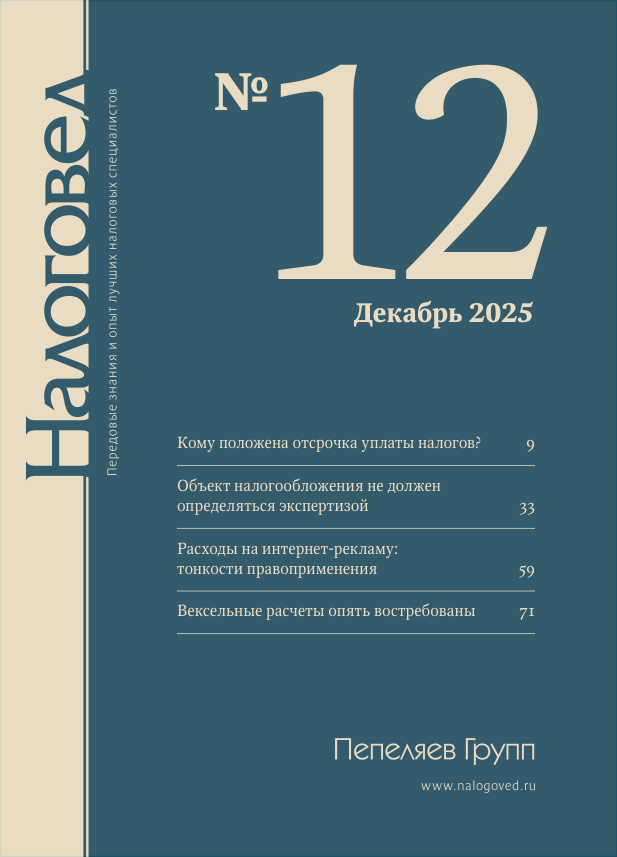


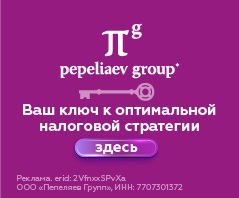
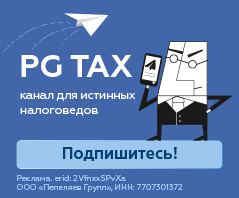
Биография